Дугин А.Г. Auf, die Seele! (эссе о Евгении Головине)
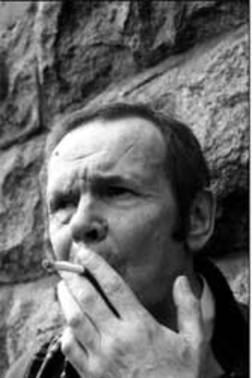
А.Дугин
Auf, die Seele!
(эссе о Евгении Головине)
Auf, die Seele
Du muss lernen ohne Sternen
Wann das Wetter topft und bricht
Wann die grosse schwarze Decken uns erschrecken
Dir zu sein
Ein eignes Licht!*
--
* Немецкий.
«Воспрянь, душа!
Когда нет звезд,
Когда бушует и ярится непогода,
Когда черные тучи пугают нас,
ты должна учиться быть самой себе
своим собственным светом!»
Извращенный ангел
Когда мы находимся в одном пространстве с ним, трудно отделаться от ощущения, что процент грозового озона невероятно повышен, мы задыхаемся от сухой прозрачной прохлады, увлекаемся нечеловеческой свежестью – эту марку его присутствия нельзя спутать ни с чем…
Трудно сказать, что с ним произошло… Когда и как он стал таким? Откуда он получил этот гигантский объем пульсирующей жизни, мрачно-изломанной, ввинчивающейся экстравагантной пирамидой – прозрачное сквозь прозрачное – в опрокинутые бездны нашего недоумения.
Всегда было само собой понятно, что Головин относится к какому-то вынесенному за скобки виду, коррелированному с конвенциональной антропологией весьма причудливо и эксцентрично. Если мы люди, то он нечеловек, если он – человек, то мы не люди… Впрочем, в этом вопросе нет и не было никогда достаточной ясности.
В свое время сам Головин обрисовывал эмпирическую иерархию окружающих нас существ примерно так:
1) ниже всех стоит «шляпня», «инженерье», советская интеллигенция, у нее нет внутреннего бытия вообще, это бумажное изделие, смертельно мокнущее под дождем, разрываемое любым нервным порывом бытийных ветров;
2) злые тролли, к ним относятся домохозяйки из коммуналок, подъездная угрюмая и решительная урла, ловкие поджарые алкаши, собравшиеся озябшим утром у ларька – эти несут в себе темное упругое бытие, готовое в любой момент рассыпаться звездной едва собранной против случайного объекта агрессивностью;
3) далее идут более утонченные агрессоры – духи, гоблины, профессиональные кляузники, сотрудники спецслужб (представители «Ордена голубых бриллиантов»), бодрые позднесоветские чудовища;
4) выше всех – «извращенные ангелы», воспаленно-метафизические души южинского шизоидного подполья – с натянутой струной горнего духа, подобного выправке кремлевских курсантов, с безжалостными безднами преступных трансцендентальных подозрений (к этой категории Головин причислял самого себя).
На вопрос коллеги – «а кто стоит выше «извращенных ангелов?» -- Головин, удивленно подняв бровь, ответил – «Как кто? Люди…»
Люди…
Так что солидной антропологии на таких расплывчато убедительных аппроксимациях не построить.
Il est certainement quelqu’un*,
--
*Французский – дословно, «он, действительно, некто», в смысле «кто-то особенный», «личность».
--
но кто точно сказать, видимо, невозможно. Он некто очень и очень важный, значимый, онтологически и эсхатологически красноречивый, но его изложение самого себя старательно бережется от прямых дефиниций, которые так легко похитить. Он воплощает в себе ту фантастическую сферу, которая предшествует рождению человеческого вида, это нераздельное, ускользающее ироничное послание претергуманоидного измерения … В свернутом конусе высшего напряжения зреет зерно человеческого, зреет, отвлекаемое тонкими ветрами, пронизываемое высокими смертоносными напряжениями, постоянно балансируя над мириадами обрывов, в каждом из которых кишат свои собственные светлячки, поземки, тянутся красные сумерки, и полотна настороженных кристаллов прорезаются фиолетовыми всполохами молниевидных щупалец. Вся эта природная роскошь последнего акта становления непристойно отчетливо пульсирует в Головине, подвергая окружающий мир устойчивой порче – вокруг фигуры Евгения Всеволодовича концентрируется рой невидимых пчел (величиной с кулак) – вот почему так трудно бывает ему пройти в метро, и любой постовой с подозрением и злой тревогой всматривается в тело аккуратно одетого серьезного господина – он настойчиво выпадает из времени, искажает пространство. В принципе искажение пространство это разновидность «мелкого хулиганства», а это уже статья…
О чем пишет Головин в своей книге? О чем повествует в лекциях? Все не так очевидно. Понятно лишь, что это не эрудиция и не информация… Едва ли он ставит своей целью что-то сообщить, о чем-то рассказать, продемонстрировать свои познания, привлечь внимание к терпким формулам и гипнотическим сюжетам. Сообщения и статьи Головина не имеют ни начала, ни конца, они жестко противятся накопительному принципу – по мере знакомства с ними человек не приобретает, но от чего-то избавляется – такое впечатление, что льдинка нашего «я» начинает пускать весенние капли, рассудок мягко плавится, каденции фраз, образов, цитат, интонаций уводят нас в раскрашенные лабиринты смыслов, ускользающих даже от того, кто увлекает нас за собой… При этом как-то очевидно, что мы сами, наше внимание, наше доверие, наша фасцинация абсолютно не нужны автору. Головин не покупает нас, он проходит мимо, задевая острым черным плащом непонятной, смутной ностальгии – это было бы жестоко, если бы он кривил рот, замечая краем глаза наши мучения, но он пристально смотрит в ином направлении, и это еще более жестоко, по ту сторону всякой жестокости… Он просто нас не видит, и все.
Carrus navalis*
--
* Латинский дословно «морская колесница», культовая колесница в виде корабля, использовавшаяся во время мистерий в честь Диониса. Согласно некоторым исследователям от этого слово происходит слово «карнавал».
--
Головин много пишет и говорит о Дионисе, он знает орфические гимны, в редких случаях делает тайные знаки умершего культа, который придавал самой стихии смерти обнаженную жизненную дрожь. Диссолютивные токи, окутывающие присутствие Головина, явно замкнуты на миры Диониса.
Эти миры Головин описывает сам. Описывает даже не столько словами, сколько своим бытием, малыми мистериями своего ученого, высокобрового, аристократического досуга. Головин высший магистр досуга, искуснейший оператор свободной, интенсивно-вибрирующей лени. Его опус включает лежание на диване, беседу о футболе и живое алкогольное помутнение, совмещающее в себе таинство, психиатрический сеанс и глубоко национальную неточно ориентированную экзальтацию. Это очень серьезный орденский опус и honni soit qui mal y pense*.
--
*Французский – «пусть устыдится тот, кто плохо об этом подумает», девиз рыцарского ордена подвязки.
--
Сухопутная барка Диониса. Именно этот корабль на колесах вывозили в Афинах на празднествах, посвященных Дионису. Что означает этот странный гибрид корабля и колесницы?
20 лет назад зимней ночью мы сидели на коммунальной кухне у одного московского художника (он жил напротив больницы им.Кащенко). Разговор шел об алхимии. Внезапно Головин сказал: «я все время работаю только в двух стихиях – в земле и в воде…» «В земле и в воде». Но «ни сушей, ни морем… Weder zu Lande, noch zu Wasser kannst du den Weg zu den Hyperboreern finden – so weissagte von uns ein weiser Mund”*
--
* Немецкий. «Ни сушей, ни морем, не сможешь ты найти дорогу к гиперборейцам, так пророчествовали о нас одни мудрые уста» (фраза Ницше, цитирующая высказывание Пиндара).
--
– подхватил я, цитируя Ницше. Головин оторвал сияющие глаза от клеенки… И ничего не ответил. «В земле и в воде…»
Корабль, барка – это субъект перемещения в водной стихии. Колесница – способ передвижения по суше. Здесь важен символизм коня, который, как известно, рождается из моря – морской жеребец. Отцом коней был Посейдон. Кони и волны -- герметические родственники. Показательно, что древнейшие идеограммы коня и воды – исландская руна «eoh»-- совпадают. Отсюда устойчивый мифологический сюжет, отождествляющий коней и морские (речные) воды. У Гарсия Лорки есть гимн зеленому цвету (зеленый – культовый цвет Диониса), где это тождество названо предельно ясно:
Verde que te quiero verde
Verde ojos verde ramos
La barca sobre el mar
Y el caballo en la montana…*
--
* Испанский
«Зелено, я люблю тебя зелено,
Зеленые глаза, зеленая ветвь,
Корабль в море
И Конь на горе»
--
Гора здесь – это, вне всякого сомнения, та гора в Аттике, куда жрицы Диониса поднимались зимой в погоне за жертвенными зайцами – которых, поймав, рвали на части. Это также горная лодыжка*
--
Рене Генон сближает сюжет рождения Диониса из бедра Зевса – бедро по – гречески «meros» -- c мифологической горой индусов Меру, представляющей «ось мира».
--
Зевса, откуда родился один из Дионисов.
Родство волн и коней – природных существ – роднит в свою очередь культовые творения рук человеческих – корабль и колесницу. Но в Дионисе противоположности совпадают: в этом божестве солнечный свет прорывает чрево полуночи, женская грудь украшает мужской торс, зелень весенней жизни обвивает торжественные траектории ледяной смерти. В пространстве Диониса вода больше не вода, а земля – не земля. Они свиваются в нерасчленимый клубок, они более не раздельны, не мыслимы, не представимы друг без друга. Ясно, что такой землей можно умываться, а по такой воде – спокойно ходить. Как говорили алхимики по сходному поводу – «наша вода не мочит рук».
Искусство бытия по Дионису это искусство геонавтики, землеплавания». Головин -- адмирал землеплавания, вождь дерзкой флотилии идущих звонкими тропами растворения.
Землеплавание – это когда твердое делается мягким, а тонкое – плотным, когда существующее растворяется, обнажая несуществующее, когда тела и тени меняются местами, и мы видим все не так, как видим, а как оно есть. Головин говорит об этом в важном стихотворном тексте «Учитесь плавать»
«Когда вы идете вперед,
вы все время боитесь удара
В ночной тишине
вы все время боитесь кошмара
И ваша нога должна чувствовать твердую почву
И женщины вас отравляют бациллами ночи
И ваша нога должна чувствовать точку опоры,
Иначе пойдут лагеря, дурдома, коридоры
А если сп...т аппараты, книги, деньги,
Вы передохнете как жалкие калеки
Учитесь плавать, учитесь плавать,
Учитесь водку пить из горла
И рано-рано, из Мопассана
читайте только рассказ «Орля»
И перед вами как злая прихоть
взорвется знаний трухлявый гриб
Учитесь плавать учитесь прыгать
на перламутре летучих рыб.»
Плавают, естественно, в земле. Тот, кто не смог сделать землю жидкой, тот никогда не увидит моря. Для них, как любит цитировать Головин Готтфрида Бенна – «Alles ist Ufer, ewig ruft das Meer»*.
--
* Немецкий «Все – берег, но вечно зовет море».
--
Конец мира в Люблино
В Люблино (я там в свое время снимал квартиру) есть место, где город как-то резко сходит на нет, и открывается его внутренняя сторона – из загаженных ржавых котлованов поднимаются останки кладбищ, закоптелые корпуса разваленных заводов вызывающе целятся в небо, черномазые дети жгут воняющую пластмассу на фоне пугающе плотной линии высоковольтных передач и темного факела… Здесь в автобусах не прекращаются драки, а в общежитии целый этаж занимают больные цингой и тифом. За грязным полным мертвого железа взрытым полем помоек высятся удручающие пейзажи Капотни и Марьина, куда не отваживается ступать нога человека – позже я встретил одного прописанного в Капотне – его туша была покрыта утолщениями, панцирными пластинами, выпученные глаза смотрели совершенно в разные стороны, короткая майка с эмблемой общества «Память» едва прикрывала косоугольный живот…
Евгений Всеволодович сидел на окраине Люблино, очерчивая рукой, с зажатой в ней бутылкой портвейна, пронзительный чуть не оконченный знак – скрещивая суставы и ясно сквозь зубы произнося -- «Appolo deus omnia».
«Что это за картина? -- спросил я. – Чему в мирах причин соответствует картины пограничного Люблино?»
Он ответил: «Всякий раз, когда очередной демиург заболевает и отходит в конвульсиях, в мире воцаряется некоторая пауза. Новый демиург еще не готов, и реальность разевает свой оржавленный рот и хлопает ресницами ледяных могил. Ритм рождений и смертей прерывается, остается недоумение. Оно-то и воплощено в том, что мы видим. Мир умер, но не все это заметили…»
В другой раз Головин рассказывал, что в IV веке последние греческие язычники видели в массовом порядке «похороны богини Дианы», она лежала, неподвижно, застыло, на похоронных носилках, и грустные, бледные нимфы молчаливо лили свои фиолетовые ядовитые слезы…
«Это убило то» и «то» отныне мертво.
Пронзенное ветром сердце
Головин принадлежит циклу предрассветной эпохи. В недрах исторической полночи зябнут пальцы, тоскливо – с паузами в вечность – щелкает сухая челюсть. Тонкая черная куртка, желтый свет московских окон (взгляд извне), обращенные внутрь зрачки, жесткий недоверчивый таксист («эти могут не заплатить»), неизменный снег. Он не чувствует температуры, его тело легко меняет вес на десятки килограммов, то расширяясь до объема солидного плотного господина, то ссыхаясь в птичий скелет юноши или старика – все это на протяжении одного вечера.
«Когда я родился, женился и умер, все время шел снег….» -- говорит Головин. Это не шутка, его губы никогда не допускают подъема уголков – верная Луне гримаса строится по иной логике.
Головин воплощает в себе антитезу уюту или комфорту. Встречаясь с ним, мы теряемся, сразу оказываемся в холодном, злом, абсолютно чужом мире. И что-то подсказывает нам, что пути домой нам уже не найти… Видимо, в свое время и сам он ушел и не вернулся, и с тех пор его забыли ждать… Не в силах найти истока своего возникновения он ходит в сердце метели, устало и радостно освещая путь разодранной грудной клеткой.
Возвращаюсь домой, возвращаюсь домой
Впереди идет какой-то человек
Впереди идет прохожий, у него наверно тоже
На губах ядовитый смех.
Он заходит в мой дом, он заходит в мой дом,
В двери лифта я вхожу за ним.
У него букет фиалок, ну а я наверно жалок
С портфелем своим
Он звонит в мою дверь, он звонит в мою дверь
Открывает дверь моя моя жена
И она его целует и она его ласкает
И видно возбуждена
Он съедает мой ужин он съедает мой ужин
И поет ей про какой-то караван
И ложится на мой диван
Ну а я уже не нужен
Выхожу за поворот я
и на все четыре стороны света
Я иду, иду, иду к себе домой
Частица его любви
Тексты Головина в его случае не самое главное, они не более значительны, чем элементы костюма или случайное выражение лица. Головин сам себя никогда не относил к писателям. «Я пишущий читатель», говорит он. Гнетущий шарм его прямого и непосредственного бытия, его интонации, его темный, донный пронзительный юмор гораздо выразительней. В каком-то смысле он неделим, и, не ставя задачи информировать или образовать читателей, как-то повлиять на них, его тексты не более, чем аура присутствия, тонкий след метафизического парфюма. Тексты Головина живут в его личности, свидетельствуют о ней, отражают ее. Не более (но и не менее). Из них невозможно вывести начала учения, не годятся они для законченной философии или искусствоведческой теории. Это просто живой объект, насыщенный лучевым фактом его присутствия. Это оформленная его сердцем тонкая пленка презентации…
Это ослепительно и общеобязательно именно потому, что произвольно, чрезмерно, потому что этого вполне могло бы и не быть…
Книга – следствие духовного каприза, от этого она особенно ценна и значима.
Евгения Всеволодовича Головина можно только любить, безумно, абсолютно, отчаянно любить. Все остальные формы оценки и восприятия осыпаются в прах.
Если вы не знаете, что такое любовь и не готовы умереть за нее, не читайте этой книги.























