Точка сомнительного равновесия
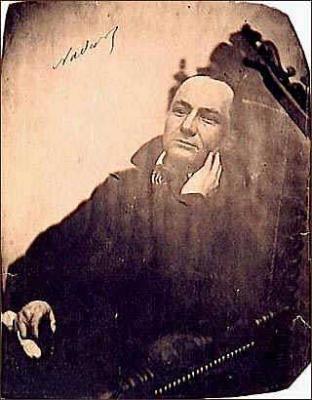
Точка сомнительного равновесия
(О Бодлере)
Современная поэзия начинается с Бодлера, потому его значение переоценить нельзя, ибо оно разнообразно и многосмысленно. Во-первых, благодаря ему и через него принципы европейской цивилизации, другими словами, "идеи" Платона резко изменили свой аспект, так что "родная мать" их бы точно не узнала; во-вторых, он трансформировал эстетику, сообщив ей совершенно нетрадиционные качества; в третьих, он понятно интерпретировал абстрактные понятия "индивид", "социум", "иерархия", "субординация"; в четвертых…но так мы никогда не кончим.
Бодлер — ученый поэт, но прежде поэт, затем ученый. Это значит: для него важней всего эмфаза, энергия, драйв. Так он понимает "зло" — это синоним интенсивности, взрыва, субверсивности, безоглядности. Отсюда его любимое выражение "не всё ли равно", то есть: важна сила, огонь, источник их происхождения — дело десятое. Почему он — "ученый"? Вот весьма резкая экспрессия Сергея Есенина: "Ну целуй меня, целуй Хоть до крови, хоть до боли, Не в ладу с холодной волей Кипяток сердечных струй." Сдержанный порыв Бодлера, стихотворение начинается: "Андромаха, я думаю о вас…" Допустим, были мы ленивыми школярами, и для нас, что Андромаха, что Андромеда — всё едино. Однако энергия имени поражает сразу. И поскольку об этой Андромахе думает поэт с такой замечательной репутацией, не грех и нам подумать. Читаем короткую реляцию в мифологическом словаре. Гомер, герои и боги, Ахилл и Гектор, легенды и сказки. Как далеко от нашей действительной жизни, от ее, по выражению Ортеги-и-Гассета, радикальной реальности. Наш начальник — подлец, жена — сволочь, дети — надоедливые уроды, и мы — безвольные и усталые — тащим по так называемому жизненному пути драный мешок, набитый обязанностями, долгами, угрызениями совести и прочим скарбом такого рода. Думать об этом противно.
Андромаха! Куда ближе к радикальной реальности. Маленький ручей в Париже, "мнимый близнец" того, мифического, на берегу которого вы, Андромаха, рыдали над трупом мужа, Гектора. Любопытно это "вы" относительно героини Гомера — мы сразу входим в жизненное пространство несчастной женщины. Горе и скорбь совечны миру сему. Читая, скажем, "О ты, героя вдова…" торжественным "вроде бы" гекзаметром, мы только лишь учитываем "памятник литературы". Ни уму, ни сердцу. Зачет, экзамен, затем провал в пропасть памяти, далее — бездна забытья.
Но стихотворение развивается, и мы удивленно замечаем: Бодлер на несколько строф покидает Андромаху. Он вспоминает о лебеде — тот убежал из клетки и блуждает по Парижу, задыхаясь от пыли, в тщетном поиске глотка воды. Далее речь идет об исхудалой туберкулезной негритянке — она "видит" на стене тумана пальмы своей роскошной Африки.
Мы в Париже "новых дворцов, строительных лесов, старых предместий". Эта панорама — только аллегория для поэта. Что такое аллегория? Наглядность переживаний и воспоминаний. "Париж меняется, но моя меланхолия постоянна… И дорогие моей душе воспоминания тяжелей, чем скалы". Возвращаемся к началу стихотворения. Оно называется "Лебедь". Однако про лебедя только несколько строк, равно как про негритянку и Андромаху. Мы узнаем, что вдова Гектора стала женой некоего Эленуса. Судя по интонации, этот Эленус — человек так себе. Нас он никак интересовать не может. Да и вообще Андромаха, негритянка, лебедь — тоже аллегории, целенаправленно ведущие к центру композиции. Этот центр означен словом Douleur. Смотрим словарь. Боль, горе, скорбь, отчаянье. Вероятно, данные русские слова каким-то боком напоминают таинственное Douleur, так сказать, общечеловеческим, даже европейским боком. Не более того. Мы обречены в круге французского стихотворения распознавать какой-нибудь один сектор, остальное — приблизительное, смутное разгадывание. Douleur — интенсивный притягательный центр аллегорий. Мыслить и вспоминать здесь одно и то же. "Я думаю о тех, кто потерял и не найдет никогда, Никогда! о тех, кто слезами утоляет жажду и сосет Отчаянье (Douleur) как добрую волчицу. О голодных сиротах, сухих как цветы".
Ясно, им нет числа. Усталая мысль поэта теряет образную находчивость. Остается простое перечисление: "Я думаю о матросах, забытых на каком-то острове, О пленниках, о побежденных!.. о стольких других!"
Стихотворение, которое началось столь решительно ("Андромаха, я думаю о вас…"), кончилось полной неопределенностью, очень сдержанной печалью. Да и кончилось ли? Имя им — кто потерял и не найдет никогда — действительно легион. Современная поэзия и современная эмоциональность вступили в свои права. Композиция свободна (начало и конец сугубо формальны, строфы без особого ущерба можно переставлять местами); название потеряло свою классическую функцию: оно либо обозначает одну из тем, либо намечает тему нераскрытую; обилие восклицательных знаков лишает каденцию ожидаемого пессимизма и т. д. Что такое "и так далее" в данном случае? Ревизия эстетики? Андромаха — женщина очень красивая, по всем предположениям, про негритянку мы не знаем, лебедь и цветы — подданные Афродиты — красивы традиционно. Но бессмертны ли они? Как видовые понятия, вероятно. А конкретный лебедь, конкретные цветы? Бодлер учит нас двусторонности сравнения: если сироты напоминают сухие цветы, обратное также верно — сухие цветы напоминают сирот. И те, и другие лишены поддержки, брошены в приюты и гербарии или просто на милость мусорной свалки. Лет за семьдесят-восемьдесят до Хайдеггера Бодлер художественно санкционировал "заброшенность". Правда, у него "заброшенность" — не экзистенциальная категория вообще, но скорее эстетическая. "Незаброшенность", если можно так выразиться, присуща людям сплоченным, стадным, деловым, чья гармония обусловлена общей пошлостью вкусов и денежностью. Это буржуа, они банальны, вульгарны и грубы, они мыслят пословицами и трюизмами, изрекают записную чепуху с видом самодовольным и жизненно мудрым. Ради них, в презрении к ним автор "Цветов зла" ввел в поэзию имморализм как шокирующий эффект. "Литании сатане" — куда уж лучше! Воспевание вагины — тоже неплохо. (Les Promesses d'un visage — "Ее глаза обещают"). Имморализм как стилистический прием вызван общим отношением к филистерам, мещанам, лицемерам, ханжам, сребролюбцам, словом, к буржуа. У подобных людей нет души, их оживляет конъюнктура внешнего мира — стоит оной измениться, им конец, как лаконично и блестяще представил Иван Бунин в "Господине из Сан-Франциско". Похабная песенка служит им молитвой, звезда варьете — мадонной, финансовый магнат — Господом Богом. Они религиозны из страха, из рефлекса субординации — этого духа механического мира. Главное — общественная сцепка: достаточно иметь в виду пару звеньев впереди и позади, начальство более высокое необходимо разумеет общую перспективу. Закон субординации легитимен на любых уровнях бытия — ранее он был свойствен церкви и армии, ныне — всем и каждому, поскольку мода и стандарт создают не менее успешно "форменную" одежду. Носители новой субординации — революционеры, бунтари, идеологи — только меняют составляющие, называют композицию иным именем, оставляя структуру неизменной. Это — закон бытия, "китайская стена" против Хаоса, и эстетика, основанная на константах меры, веса и пропорции, необходимо должна ее укреплять. Линия бытия, вертикаль, идет от зенита расцвета до надира тления и распада, чем менее вещь подвержена разложению, тем больше суперлативов она заслуживает. От прекрасной руки остаются кости, но алмазный браслет неизменен. Золото и драгоценные камни относительно нетленны, относительно постоянны, потому они — эталоны ценности.
При первом прочтении знаменитое стихотворение Une Charogne ("Падаль") кажется довольно традиционным: на прогулке, на повороте дороги. "прекрасным летним утром" поэт и его пассия увидели...объект. Так выражается поэт, не желая назвать падаль прямым именем. Назидательное стихотворение в балладической форме. Тема — memento mori. Удивляет только слишком подробное, резкое, драстическое описание неназванного объекта — из двенадцати строф оно занимает девять. Однако в поэзии вагантов, в религиозной поэзии вообще, безобразие греха или инфернальные мучения обычно изображались крайне натуралистично. Указав на "объект", нестерпимый для зрения и обоняния, нарратор сурово и справедливо наставляет свою прелестную спутницу: "мой ангел, моя страсть, вот во что вы превратитесь", умалчивая, что его ждет аналогичная судьба. Умолчание понятно — поэт хотел сделать оппозицию более контрастной: красивая женщина и… объект. При этом впечатления от женской красоты банальны и вялы: "звезда моих очей", "солнце моей натуры", "королева граций". Зато воздействие "объекта" энергично и эффектно: "Под взглядом неба роскошный каркас Распускается словно цветок…Мухи жужжат над гниющим брюхом, Откуда выползают черные батальоны Личинок — они текут густой жидкостью Среди этих живых лохмотьев…" Должны ли мы сделать вывод, что безобразие всегда энергичней и эффективней красоты? Часто, но не всегда. Трудно сказать, к примеру, кто более поражает читателя: Эсмеральда или Квазимодо? Если согласиться с мнением Андре Бретона во "Втором манифесте сюрреализма" — "Красота должна быть конвульсивна, либо ее нет", то, вероятно, Квазимодо.
В середине девятнадцатого века "скука бытия" явственно дает себя знать. Возникла в эстетике неведомая прежде "категория интереса" и очень быстро вышла на первое место. Не то чтобы артисты прошлого ею пренебрегали, однако оная всегда уступала центральности морального императива, героическим порывам, счастливым развязкам и т.п. Патриархальная культура близилась к своему концу, и безусловность мужских ценностей стала вызывать сомнение. Теофиль Готье — друг и единомышленник Бодлера — представил в "Мадмуазель де Мопен" женщину красивую, гибкую, сильную, превосходящую мужчин и умом и фехтовальным мастерством. В предисловии к роману Готье совершенно высмеял ригидный патриархальный уклад и провозгласил ценность двусмысленности, двузначности, насмешливости и молодости. Двусмысленность. Как иначе понять конец стихотворения "Падаль" ? Предсказав своей спутнице судьбу ее тела, поэт советует: "И тогда, красавица моя, скажите червям, Что обглодают ваше тело своими поцелуями, Что я сохранил, несмотря на декомпозицию, Божественную форму И сущность моей любви." Да, можно понимать прямо и по-мужски: я верен Платону и, независимо от вашей смерти и распада, принцип моей любви никогда не изменится. Но так и тянет на ироническую интерпретацию: во-первых, черви вряд ли читали Платона и вряд ли согласились бы с ним; во-вторых, Бодлер перевел "Лигейю" Эдгара По, стало быть отлично знал строки героини про "Червя-Триумфатора". Автора сонета Le Gouffre ("Пропасть"), который написал: "Увы! всё — бездна: дело, желание, мечта…", трудно упрекнуть в идеализме. "Бездна" погубила не только Паскаля, но и самостоятельность мужского начала вообще. Поверив теории новой астрономии о бесконечности великой матери Ночи, образованные европейцы сначала пришли в ужас, потом в нигилизм, потом смирились с материализмом. Но только не Бодлер. Он не мог смириться даже с научно обоснованным рабством и предпочел смерть при жизни, то есть сплин. Поскольку этой теме в "Цветах зла" посвящено четыре стихотворения, сие надлежит немного прокомментировать. При своей всегдашней склонности к дендизму, Бодлер и взял это английское слово, необычайно, правда, расширив значение.
В книге капитана Джесса о Джордже Брэммеле объясняется употребление слова spleen: в 1812 или 1813 году английские гостиные только и гудели разговорами о Наполеоне. Два знаменитых денди, Брэммел и Транджелис отчаянно скучали, наконец Брэммел произнес, почти не разжимая губ, не поворачиваясь к собеседнику (эту манеру обращения денди старательно усваивали): "Чарли, надо развеять этот сплин. Расскажите, пожалуйста, о новом рецепте накрахмаливания манжет." Характерная аффектация связана с характерным нежеланием говорить на злобу дня: не дай бог, имярек заподозрит в общих интересах с толпой.
Бодлер означил словом сплин новую эпоху, новое мировоззрение. Таково стихотворение Spleen (LXXVIII): "Когда стонет дух жертвой нескончаемой тоски, И тяжелое небо давит как массивная крышка…Когда горизонт концентрирует свой круг И выжимает на нас день, Черней и зловещей ночи… Когда земля превращается в сырой карцер, Где Надежда подобно летучей мыши Бьется о стены осклизлым крылом И ударяется головой в гнилой потолок; Когда ливень тянет свои потоки, Имитируя прутья решетки, И жуткий народ пауков Оплетает сложной паутиной Закоулки наших мозгов,
Колокола срываются в безумие И бросают в небо свой отчаянный звон…А блуждающие, безродные призраки И воют, и хрипят.
И долгие похороны — ни барабанов, ни музыки — Медленно дефилируют в моей душе…Надежда, покинутая, плачет…Деспотический ужас Водружает на моем черепе Черное знамя."
Даже построчник, даже наивное желание "верно" передать стихотворение наталкивается на непреодолимые препятствия. Сплошное нагромождение неопределенностей: во-первых, русские слова "надежда", "ужас", "душа", "призраки" вызывают у каждого свои реминисценции; потом аналогичные, вроде бы, французские слова Espoir, Angoisse, Ame, Des Esprits пробуждают у нас свои, у французов свои ассоциации, не говоря уже о тонком и крайне своеобразном восприятии поэта; далее — ритм французского стихотворения весьма аритмичен для русского уха с нашей силлабо-тоникой. Но всё это — различия довольно общие. Главное — уникальный экзистенциально-поэтический опыт Бодлера. Сплин? Какая-то здовещая, на наш взгляд, смесь скуки, страха, тоски, хандры.
Лет через тридцать после выхода "Цветов зла" произошел любопытный разговор живописца Дега и поэта Малларме. У меня очень много мыслей, пожаловался Дега, но стихи всё равно не получаются. Это потому, ответил Малларме, что поэзия создается из слов, а не из мыслей. Бодлер, вероятно, ответил бы приблизительно так. Для поэта мысль не ведет самостоятельного существования. "Мысль — только сон чувства, белесое, блеклое чувство", — писал Новалис. Поэты — аналитики старых, открыватели новых эмоций, ни в коем случае не мыслители. Сплин хоть и близкий родственник скуки, тоски, хандры, не совпадает с таковыми. Это чувство, индивидуальное, не социальное, родилось в резком расхождении индивидов и социума, в нем всегда присутствует та или иная доля аффектации. Никакой искренности, никакого "близко к сердцу". Сплин предощущается, едва ощущается. Отсюда изобилие метафор в четырех стихотворениях, объединенных этим общим именем, а метафоры — атавизм, наследие магической культуры. Никак нельзя определить: сплин это то-то и то-то. Ничего "хорошего" в нем, ясно, нет, но ведь в поэзии грустные слова лишены…весомости. "Катастрофа", "беда", "страдание" — всё это хочет освободиться от логической оси и логических связей. Каждый, хоть изредка, спотыкался о "негативную магию слов", например, когда хорошо сформулированный и произнесенный вслух план неожиданно приводил к обратным результатам. Значение теряется в необьятности слова, вот почему перевод иностранного стихотворения имеет лишь поверхностно-общественный резон. Когда немец говорит "Es regnet", а русский говорит "Идет дождь", они имеют в виду совершенно разное качество дождя. Стихотворение Spleen (LXXVII) начинается так: "Je suis comme le roi d'un pays pluvieux…" (Я похож на короля некой дождливой страны…) Можно перевести точнее: Я живу/существую как король неизвестной дождливой зоны пространства…, можно перевести еще точнее, но какой толк? Сугубо разные фонетические впечатления, крайняя приблизительность смысловых ассоциаций. В России королей не было, королей мы знаем по сказкам да игральным картам, для нас, что король, что царь — всё едино, хотя геральдика учит: эти два ноумена имеют совсем разные прерогативы и сюиты. Забытая наука, скажут, да это и к делу не относится. Неправда. Это очень даже относится к делу, иначе Бодлер взял бы другое слово. Но вернемся к проблеме сплина. Здесь не просто ощущение среди других, но мироощущение — недаром сказано про короля: "В его жилах вместо крови течет зеленая вода Леты." Мы, разумеется, не знаем цвета воды в реке забвения, но ведь говорим — "зеленая тоска", "зеленые пятна разложения". Одно из самых страстных и жестоких стихотворений Гарсиа Лорки так и начинается Verde que te quiero verde (Зеленая, как я тебя люблю, зеленая). Так что зеленый цвет воды реки забвения весьма динамичен в оттенках своих, а в сочетании с "дождливой страной" очень суггестивен. Этому королю решительно надоели его королевские преимущества: гротескные баллады шута, казни на площади перед дворцом, соколиная охота, откровенные наряды придворных дам и пр. Его душа не реагирует на соблазны мира сего. Но здесь нет нигилизма, ибо король ничего не отрицает. Перефразируя известную философему Хайдеггера (Если нет законов, нет также и беззакония.), можно сказать: если нет утверждения, нет также и отрицания. Неоднозначность понятия "сплин" налицо: усталость от страстей человеческих, отчуждение, десоциализация; опасность индивидуализма — его стерильный пейзаж не представляет ни малейшего интереса. Точка сомнительного равновесия.























